33. Призвание
— Ну что, куда теперь? Обратно в гостиницу? Или ещё погуляем? — лицо Юли подсвечивалось тёплыми лучами заходящего солнца, золотя её белую кожу.
Я только задумался над ответом, как вдруг издалека донеслись сирены «скорой помощи». Мы переглянулись.
— Ты подумала о том же, о чём и я?
Девушка уверенно кивнула.
— У тебя студер с собой? — спросил я, вытаскивая из кармана телефон.
— Да, — она залезла в сумочку и довольно быстро нашла там студенческий билет.
— Идём, — я проверил в интернете расположение госпиталя, и решительно повёл девушку за собой.
До госпиталя было довольно далеко: нам пришлось оседлать автобус и доехать до самого выезда из Красного: госпиталь развернули на заброшенном поле у самого выезда. У палаток на пневмокаркасе выстроилась очередь из реанимобилей. Госпиталь, судя по всему, принимал главным образом тяжёлых и экстренных. Всякого рода обострившаяся хроничка, мелкая травма и «померять давление» получали помощь на месте. Сюда же везли только тех, кто точно не мог подождать пока больницы и поликлиники запитают от мобильных генераторов на шасси грузовиков и соберут разбежавшийся медперсонал. Мы направились к административной палатке. За раскладным столиком перед ноутбуком сидел дежурный капитан.
— Лечфак ГГМУ, четвёртый курс, — сказал я, протягивая военному студенческий.
— Рад за вас обоих. Чего надо, молодые люди? — он поднял на нас несколько недоумённый взгляд из–под очков.
— Мы пришли помочь. Вам наверняка нужны лишние квалифицированные руки. Направьте нас на работу, — с некоторым раздражением от непонятливости собеседника сказал я.
— Нет, не нужны, госпиталь полностью укомплектован личным составом.
— Ну и что? Неужели две лишних пары рук некуда пристроить? — я слегка прифигел от такой реакции.
Военврач отодвинул ноутбук, сцепил руки в замок, и обратился ко мне с таким видом, будто бы ему приходится разжёвывать таблицу умножения профессору математики.
— Коллеги, я уважаю ваше желание помочь. Но никакой помощи нам не требуется. Наш аэромобильный госпиталь это полностью укомплектованный личным составом высокопрофессиональный коллектив. Хорошо сработанный притом. Мы одним составом оказываем помощь пострадавшим от наводнений, землетрясений, ураганов и боевых действий. Мы были в Сирии, Италии, Абхазии. По России много где. И сторонние люди из местных нам, если честно, не очень нужны. Вату катать нам не надо — запасов достаточно, успокаивать плачущих детей тоже — в данный момент госпиталь заточен под неотложную хирургическую помощь. А до пациентов я вас не допущу, уж извините. Четвёртый курс гражданского медвуза это конечно хорошо, но о реальной вашей квалификации ничего не говорит. Так что не мешайте работать, пожалуйста.
Сказать, что я был шокирован — не сказать ничего. Где это видано, чтобы медики отказывались от халявной рабсилы? Да ещё и в момент пиковой нагрузки! От такой отповеди мне было даже нечего сказать, только уйти. Уже у выхода нас догнал оклик:
— Ребят, если хотите — идите в любую больницу Красного. Там вас с руками оторвут и загрузят работой по самые уши. Они захлебнулись уже от пациентов. Тяжёлых на себя возьмём мы, но всех остальных повезут к ним. И так будет минимум сутки, пока снова не заработают больницы Города.
— Спасибо, — я хмуро кивнул, взял девушку за руку и мы вышли.
Снова оказавшись на улице, я хмуро повёл Юлю обратно к остановке. Оглянувшись через плечо, я напоследок окинул взглядом палатки: в этот момент из очередной «скорой» выгружали пациента. Это был голый седой старик, накрытый простынёй. Я почему–то вспомнил Сархата. А вдруг это он? Даже если бы это было так, что бы я сделал? Вытащил бы нож и побежал его дорезать? Тихо пробрался бы в госпиталь и ввёл в вену десять кубов адреналина? Да ни хрена бы я не стал делать. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
Не мудрствуя лукаво, мы оказались в больнице где лежал Степан.
— Куда идём? Посещение с одиннадцати до часу, — седой дедушка в форме ЧОПа выглянул из каморки рядом с вертушкой.
— К главврачу. Или в кадры. Кто–то из администрации есть тут?
— Есть главврач. Кабинет двести девять. Бахилы наденьте, — охранник кивнул и спрятался обратно за стекло.
Скормив две пятирублёвки аппарату, и натянув на обувь синий полиэтилен, мы поднялись на второй этаж, и, ориентируясь по интуитивному пониманию устройства больницы (оно где–то ко второму курсу появляется у всех медиков) почти мгновенно нашли административное крыло на втором этаже и кабинет главврача вместе с ним. Если бы больничка была клинической, можно было бы направиться сразу на кафедру, но увы, кафедр тут нет, а значит лучше заходить через начальство.
Я постучался и вошёл.
— Главный у себя? — спросил я секретаря — невзрачную тётку лет около сорока.
— Нет, в ОРИТе, — она отрицательно помотала головой. — А вы по какому вопросу?
Я молча вышел.
— В реанимацию пошли, — ответил я на молчаливый вопрос Юли.
— Тын–дын–лын, тын–дын–дын — пропиликал видеодомофон. — Кто?
— Нам главврач нужен, срочно.
— Ждите.
Минуты через две дверь открылась и мы увидели стареющую, но ещё красивую женщину. Круги под её глазами навевали мысли о пандах, а сам вид говорил о предельной усталости стоящего перед нами человека.
— Здравствуйте. Мы студенты–четверокурсники ГГМУ, лечфак. Помощь нужна?
Женщина подвисла на пару секунд, а потом молча распахнула дверь, впуская нас. Этот ОРИТ оказался почти точной копией того, в котором я проходил практику после первого курса: два коридора сходящихся под прямым углом, двери палат и вспомогательные помещения. Сразу возле входа была решётчатая дверь каморки для хранения наркотических препаратов.
— Хиркостюмы есть? — без особой надежды спросила главврач.
Мы отрицательно помотали головами:
— Нет. Ни халатов, ни шапочек, ни даже тапок. Только готовность работать на износ.
— Маша! — когда из–за угла показалась бабулька замученного вида, на нас указали подбородком — Найди во что переодеть. Это волонтёры.
И скрылась в палате, оставив нас наедине с сестрой–хозяйкой. Та, без слов, отвела нас в раздевалку для персонала, и довольно быстро нашла нам по хирургическому костюму, шапочке и паре сланцев. Одежда была далеко не новая, но вполне приличная. Переодевшись, мы последовали в палату вслед за доктором, она сидела на посту и что–то писала за столом. Пост в реанимации — это не то же самое, что в любом другом отделении. Во–первых располагается этот пост непосредственно внутри палаты, чтобы все пациенты были на виду. А во–вторых он не сестринский, а врачебный. За людьми, которые не одной, а сразу двумя ногами в могиле (реанимация в буквальном переводе, ни много, ни мало — оживление, одушевление, если угодно) постоянно наблюдает врач анестезиолог–реаниматолог, а не медсестра. Сама палата была рассчитана мест на десять, вряд ли больше, но сейчас тут стояло шестнадцать функциональных кроватей, между которыми места едва хватало чтобы пройти.
Прежде чем мы успели доложиться, один из кардиомониторов включил сирену, подавая сигнал об остановке сердца.
Доктор подняла голову от истории болезни, и обратилась ко мне:
— Как тебя зовут?
— Юра. А вас?
— Тамара Васильевна. Юр, трупы собирать умеете? — дождавшись утвердительного кивка, она продолжила — Отключи сирену, и убирайте её. Отмучалась наконец, — не дожидаясь вопроса, сразу пояснила: — саркома лёгких, четвёртая стадия. Метастазы в печень, почки и лимфоузлы по кругу.
Ну да. Реанимационные мероприятия при таком диагнозе уже не показаны. Ушёл человек — значит ушёл.
— Перчатки и бинты на столике, мешки — в биксовой, каталка — в коридоре, — продолжила она, не отрываясь от бумаг.
Переглянувшись с Юлей, мы отправились выполнять распоряжение. Перчатки как обычно были маловаты: сколько раз приходил на практику в отделения, столько раз приходилось натягивать семёрку на свою восемь с половиной. Впрочем, в этот раз всё было не столь печально: на столике нашлась коробка виниловых перчаток размера L, а это восьмёрка, которая натягивается на мои руки почти без мата. Надев защиту, я привёз из коридора каталку, зацепив по пути чёрный мешок для трупов. Когда я вернулся, Юля уже сняла с умершей крестик, достала мочевой катетер и подвязала челюсть. Бабуська была не так чтобы сильно старой. Слегка за пятьдесят — не более. Когда–то довольно крупная, от рака она высохла. От этого дряблая кожа, покрытая липкой холодной испариной, лежала неприятными складками, а пустые кожаные мешки когда–то крупной груди обвисли в разные стороны, сосками почти касаясь простыни. Крайне неприятное зрелище. Впрочем, смерть вообще — штука так себе. Я помог Юле связать медленно деревенеющие руки трупа на груди, расстелил и расстегнул мешок, а потом перекинул тело в простыне на каталку. Оно было совсем лёгким: килограммов сорок, может сорок пять. Я справился без проблем: Юля только чуть придержала ножной край простыни, чтобы не стукать труп. Вроде ему и без разницы, а всё равно стараешься всё делать аккуратно. Пока я кантовал мёртвую, вытаскивая из–под неё казённую простынь, девушка получила у доктора бирку, и как только я закончил — надела на большой палец ноги. Хоть в чём–то кино не врёт. Мне оставалось лишь застегнуть над умершей молнию.
— Трупохранилище в подвале. От лифта прямо по коридору к лестнице. Там пандус в подвал. Вот ключ — не отрываясь от бумаг, к которым степлером уже был прибит зип–лок с крестиком, она протянула нам ключ.
В молчании мы вывезли покойницу из отделения, на грузовом лифте довезли до первого этажа и спустили в трупохранилище. Стеллажи в небольшом прохладном помещении были заняты чёрными мешками сплошь, мне пришлось подвинуть двоих, чтобы впихнуть на полку нашу бабку. Так и в Донбассе было поначалу: вроде бы от обстрелов гибло один–два человека в день, а морги забиты. Просто от запредельного уровня стресса обостряются все хронические заболевания, а из–за резкого возрастания нагрузки на здравоохранение, так же резко падает его качество. Страдает скорость оказания, появляется дефицит медикаментов, врачи устают.
Мы вернулись в отделение и снова подошли к главному.
— Готово. Что дальше? — я положил ключ на стол.
Врач отложила ручку, потёрла лицо руками и посмотрела на нас.
— А что вы умеете?
— Все сестринские манипуляции. Инъекции внутримышечные, внутривенные, капельницы, катетеры… Клизмы, промывание желудка, забор основных анализов… — взялся перечислять я.
— Я ещё шить умею, — подняла руку Юля.
— Я — нет, — мотнул я головой в ответ на вопросительный взгляд. — У нас оперативку преподаёт Тотошкин, ему слегка за восемьдесят и он близок к маразму. На занятиях вместо того чтобы учиться оперировать мы слушаем рассказы о его успехах. Причём одни и те же, обильно сдобренные мордовской бранью.
— Алексей Анатольевич? — глаза доктора округлились. — Помню, помню. Ещё когда я училась, он уже был старым упырём. На экзамене по оперативной хирургии он с меня три пота согнал… Впрочем, тогда этот старый упырь был немногим старше меня сейчас… Так значит он ещё жив?
— Живее всех живых. Мне кажется, он ещё меня переживёт. Он сам говорит, что Тотошкин вечный, и все кто ему хотел зла — сдохли.
— Да, любит он это слово, — Тамара Васильевна снова взялась за ручку. — Листы назначений на сестринских столах лежат. Девочки спят, их всего две, и они уже двадцать восемь часов не спали. Дольше только главврач на ногах был, я их всех в сестринской уговорила лечь час назад…
— А я подумал что главный — это вы.
— Нет. Я — завотделением. На данный момент — она широко зевнула — один из трёх человек, которые сейчас бодрствуют в отделении, не считая вас. Главный — Сергей Петрович Ларионов, тоже анестезиолог–реаниматолог. Вчера, когда ввели режим ЧС, он вызвал на работу всех. Всех, у кого был выходной, кто в отпуске был. Ну из тех кто трубку взял, и не додумался сказать что улетел на выходные к бабушке в Гватемалу. А сам Петрович к нам пришёл: у нас на днях один врач уволился, другая легла в ЭХО[25] с аппендицитом. С ним нас стало четверо, лучше, конечно, чем было, но всё равно жопа полная. Особенно если учесть что сестёр две. Остальные отказались выйти на работу. Одна прямо отказалась, другая просто трубку не взяла. Мы ещё вчера начали захлёбываться от волны самообращенцев. А какой ужас они рассказывают… Знаете же что произошло в Городе?
— Ну, в общих чертах… — демонстрировать свою осведомлённость не стоило.
— В Городе были теракты какие–то, взрывы, аварии. Коммуналка не работает, а народ кинулся в драку все против всех. Анальнисты, гастры, коммунисты, просто гопники… Полный хаос и неразбериха. Появилось много убитых и раненых. Плюс всё хроническое что было повылезало у всех и сразу. В Городе с медициной тоже какой–то ужас приключился, и кто мог — бежали сюда. Получилось, похоже, не у всех. Вот та девушка — она показала на пациентку в углу палаты — по дороге получила пулевое в лёгкое. Сама бы не поверила, если бы лично не давала ей наркоз. Как она вообще осталось живой мне непонятно… Кстати, а вы то здесь как оказались? Вы студенты, когда всё началось, должны были быть на занятиях.
Прежде чем Юля успела что–то сказать, я брякнул первое что пришло в голову:
— Мы квартиру снимаем возле мясокомбината. До Города далеко конечно ездить по утрам, зато существенно дешевле. — Версия предельно идиотская, но и передо мной не следователь, а замученная тётка, мечтающая поспать хотя бы пару часов. — А в тот день уснуть долго не могли, — я сделал жест «ну вы понимаете» — на учёбу проспали и решили прогулять. А потом началась эта фигня…
— Повезло вам, — мой ответ действительно удовлетворил собеседницу. — Листы назначений на сестринских столах. Ты, Юр, на гнойный пост, а ты, — она указала ручкой на Юлю, — со мной на чистом. Будут вопросы — подходите.
Я кивнул и вышел. Постов два, коридоров — тоже. Совпадение? Не думаю. Если быть точным — знаю, что нет. Я зашёл в гнойную палату. Она была практически точной копией «чистой», с одной лишь разницей: в углу у стены, прикрученный к полу, стоял монстр противоожоговой кровати — ультрадорогой агрегат сходный своим устройством с судном на воздушной подушке. Ну или с аэрохоккеем, если угодно. Сейчас он был включен, и на «облаке» лежал пациент, всё туловище, лицо и руки которого были в бинтах. Всё остальное место в палате занимали обычные функциональные кровати, каковых здесь поместилось четырнадцать. Возле стеклянного шкафа стояла женщина в розовом хирургическом костюме и набирала в двадцатикубовый шприц какое–то лекарство.
— День добрый.
— Вечер уже, молодой человек, — она обернулась. Лет под пятьдесят, грузноватая, усталая. — Кто вы?
— Я волонтёр из медунивера. Меня завотделением послала на помощь. Командуйте.
— Какой курс?
— Четвёртый.
— Хорошо, — он кивнула. — Помоги набрать эпинефрин в инфузоматы. Три шприца я сделала, ещё пять надо.
— Добро, — я прошёл к шкафу.
Рядом с ним на полу стояла большая картонная коробка с целым граммом адреналина: тысяча миллилитровых ампул по одному миллиграмму, в пачках по пять штук. Я стал доставать их из коробки и ломать коричневые стеклянные головки, выставляя ампулы в ряд. Медсестра высасывала из них шприцом лекарства. Разделение труда, типа. Закончили мы довольно быстро. Готовые аппараты, снаряжённые адреналином, медсестра, так пока и остававшаяся неизвестной, понесла ставить пациентам, а я остался ссыпать пустые ампулы в пакет с отходами класса Г.
— Закончишь — смени мешок этому ханыге, и свищ обработать не забудь, — проходя по палате она показала мне на одного из пациентов.
Предчувствуя нехорошее, я отставил звякнувший стеклом пакет и подошёл к указанному пациенту: так и есть, колоностома, и мешок, который нужно сменить — под завязку набит говном. Знаем, проходили. Сменные мешки предусмотрительно торчали в ногах кровати. Слегка поморщившись (скорее для проформы, правда, ибо ничего особо нового, хоть и приятного мало), я откинул простынь с пациента, и аккуратненько снял пластиковый пакет, временно заменяющий мужичку крайне пропитого вида прямую кишку.
— А что с ним? — спросил я, обрабатывая дыру в животе, к которой был выведен кишечник.
— Застарелая колото–резаная рана прямой кишки, — откликнулась мелсестра.
— Это как, застарелая? — я слегка офигел.
— А вот так вот, — раздражённо пояснила она. — К нам он приехал уже без сознания, но скоряки записали со слов соседей: бухал в компании соседа и его жены несколько дней. В ходе попойки, на почве ревности сосед засунул ему в жопу столовый нож, разрезав оба сфинктора. Видимо спящему. После чего вытащил и они продолжили синячить. Пили ещё дня два, пока этот гуманид наконец не почувствовал себя плохо и не вызвал скорую.
— Мда… Перитонит?
— Да. Летальность около восьмидесяти процентов, но конкретно этот скорее всего выкарабкается. А вот срать самостоятельно не сможет долго.
— Зачем только выкарабкиваться ему, непонятно… — пробормотал я себе под нос и распрямился. Осталось лишь утилизировать зловонный сосуд и сменить перчатки, что я и сделал в санитарской, выдавив содержимое в унитаз, а сам пакетик вместе с перчатками кинув в жёлтый мешок с биологически опасными отходами.
— Тын–дын–дын. Тын–дын–дын, — по отделению раздался звук домофона, как раз когда я в новых перчатках выходил в коридор.
Не мудрствуя лукаво я зашагал к выходу из отделения. Дверь открылась, вошёл пожилой усатый доктор и потянул за собой каталку, с лежащей на ней девушкой. Девушка дышала сама, что уже радовало. Я схватился за задний край каталки помог завезти её в «чистую» палату. Заведующая подняла голову от стола:
— Что с ней?
— Гипергликемическая кома, СД‑1, сахар был в космосе. Уже в приёмнике фибрильнула[26], но получив сотку, пошла. Инсулин сделали, остальное давайте сами, — он обернулся ко мне — Давай, помоги мне. Раз, два!
Мы перекинули девушку с каталки на кровать, матрас на которой Юля уже успела протереть после бабки дезраствором и застелить новой простынёй. Сама девушка уже несла систему и литровую бутыль физраствора. Усатый доктор отдал историю болезни Тамаре Васильевне и уже на выходе обернулся:
— Кстати, её парнишка привёз на машине. У него взрывная травма ноги, много осколков. Плохой очень. Как ехал — непонятно. Он сейчас в шестой, часа через полтора, если повезёт, привезут к вам. Развлекайтесь! — и ушёл.
— Кислород, капельницу, мочевой катетер. Препараты наберу сама, — заведующая тяжело поднялась из–за стола, её приказания были короткими и хлёсткими. Ещё на первом курсе мне пришла в голову мысль, что медицина — это женская армия. Врачи — офицеры, медсёстры — сержанты, санитары — рядовой состав. Сестра–хозяйка — чем не старшина? В медицине работает много мужчин, ну так и в вооружённых силах немало женщин, пусть и не на столько. Конечно же всякая аналогия ложна, но так уж она напрашивается, порой… Впрочем, мысль о необходимости военизации здравоохранения в моей голове сидит давно и укрепляется с каждым годом, с каждой смертью от долбоебизма. Особенно когда смерть детская, а долбоебизм — взрослый. Что прикажете делать с тупорылой мамашей–веганшей, которая ребёнка кормит травой? Мальчик в пять выглядит на два и никогда не пробовал не то что мяса, но даже яиц и творога. У него рахит, отставание в физическом развитии и сломанная жизнь. Зато ни одна зверюшка не пострадала, блять. А бывает и хуже: например отказ от госпитализации при остром аппендиците. Да это у него же просто колика, он сейчас полежит и у него всё пройдёт, вы просто тупые и ничего не знаете. Яжмать! Я рожала! А у вас дети есть? Да что вы можете знать! Вам просто премии выписывают за операции! Раз объясняешь, второй, третий… Отказ и всё. А когда прокуратура таких сук пытается привлечь к ответственности, они невинно хлопают глазами, «ой, а я не знала, доктора непонятно объяснили» и заливаются горючими слезами, ребёночек–то умер! Уморили злые врачи кровиночку. Да ты сама, сука, его убила! А ведь помимо таких, на самом деле уникальных и вопиющих случаев, бывают и совершенно банальные: деклассированные туберкулёзники, не желающие лечиться, вичовые и гепатитные наркоманы, не знающие, что такое презерватив, и антипрививочники как отдельный класс анацефалов. И они поймут только силу, ибо глухому не расскажешь, слепому не покажешь, тупому — не докажешь.
Пока Юля вкалывалась катетером в вену, я снимал с пациентки остатки одежды. От девушки здорово таранило ацетоном, особенно изо рта и от трусов. Снимая их я непроизвольно скривился, причём совершенно искренне, в отличии от случая с колоностомой. Вроде бы девушка молодая. Красивая. Голая. Передо мной. Вот только нет менее эротичного зрелища, чем это. Девушка больна, более того — в коме. И надо быть конченым извращенцем, почти некрофилом, чтобы подобное вызывало что–то кроме отвращения.
— Мочевой поставишь сама? — спросил я Юлю.
— Поставлю, — она усмехнулась, — а в чём дело?
— Не люблю я это дело… — я замялся. — Не люблю голых больных женщин. Тем более трогать их за половые органы.
— Зато здоровых любишь, — она засмеялась. — сахар померь тогда.
Это без проблем, это мы быстро. Интуитивно ориентируясь в ящиках сестринского стола, я быстро добыл глюкометр, тест–полоску и иголку от шприца: искать копьё, предназначенное для этой цели, занятие практически всегда бесперспективное. Спиртовой салфеткой по безымянному пальчику, капля крови на полоске…
— Сахар семнадцать и четыре. Далеко не норме, но уже нестрашно, — я раскидал отходы по местам: бумажки и колпачок иголки в «А», тест–полоску и спиртовые салфетки в «Б», а саму иголку утопил в специальном контейнере с дезраствором.
— Мы закончим, иди, Юр, — Тамара Васильевна выдавила двадцатикубовый шприц с лекарствами во флакон с физраствором подключенный к капельнице.
Я кивнул и вышел, подмигнув Юле, заставляющей в ноздри пациентке кислородопровод.
В гнойной палате меня снова ждала работа. Несложная, но муторная и малоприятная: под наступивший вечер шестерым пациентам требовалось поставить клизмы. С другой стороны это лучше чем мыть их вместе с кроватями когда они обосрутся. А делать это в любом случае мне: на то мы и практиканты/волонтёры, чтобы на нас ездить, эксплуатируя и в хвост и в гриву. Заняло это около часа. Потом обошёл всех с ведром, слив мочу из мочесборников и записав показатели диуреза в истории болезни. Сменил перчатки ещё раз и только присел передохнуть, как в коридоре зазвонил внутренний телефон. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять по ком звонит колокол. И верно: через минуту вошла Юля с простынёй в руках.
— Поехали в операционную: парня забирать надо.
— Добро. Сейчас привезу, — я взял простыню у неё из рук.
— А я?
— Останься, я справлюсь. Это работа для одного, — я поцеловал её в щёку.
— Ладно, — она протянула мне маску. — Надень.
Взяв пустую кровать в коридоре, я поднялся на лифте на девятый этаж, через домофон попал в оперблок, миновал красную полосу границы абсолютной стерильности, и, обдуваемый ветром подпорки давлением, вкатился в шестую операционную.
Первое что я увидел — была картонная коробка с жёлтым пакетом. Внутри лежала нога, левая. Нижние две трети голени блестели свежими спилами берцовых костей. Сама голень была абсолютно здоровой и почти целой, а вот ниже была практически каша. Голенстоп представлял собой фарш из мяса, обломков костей и мелких металлических элементов, застрявших в тканях. Мозг автоматически выдвинул версию что имел место взрыв чего–то типа гранаты под днищем автомобиля. В любом случае это не пуля, не дробь, и не готовые поражающие элементы серьёзной противопехотной мины. Потом я поднял взгляд на операционный стол и увидел культю. Из свежего шва торчал кусок резиновой перчатки, использованной в качестве дренажа. Ничего необычного. Проследил взглядом до головы пациента: обычный парнишка, моего возраста. Покрупнее меня, спортивный, светловолосый, нос с горбинкой и в веснушках, ярко видных на бледном, как мел, лице. Пациента уже экстубировали, дышал он сам, мало–помалу приходил в себя, ворочал шеей и постанывал. В голубых глазах стоял туман. Тяжело ему будет, когда придёт в себя. В двадцать лет стать инвалидом — очень тяжёлый удар. Операционная бригада буднично заканчивала операцию: хирург в углу писал протокол операции, анестезиолог–реаниматолог — анестезии, сестра — пересчитывала окровавленные ватные тампоны и собирала инструмент.
— Вечер добрый, уважаемые. Я из реанимации, могу забрать больного? — обратился я к присутствующим.
— Сейчас допишу — поедем. Подожди минуту, — сказал анестезиолог, не отрываясь от бумаг.
Я снова посмотрел на пациента. Шея расслабилась, туман в глазах рассеялся, глаза смотрели в потолок. Видел я такие взгляды уже.
— Эй, народ! У вас, мне кажется, пациент встал! — я это сказал очень громко, почти крикнул, заставив всех обернуться сначала ко мне, потом к столу.
Первым вскочил реаниматолог. Он в два шага оказался у стола и положил на него ладони: на грудь и на живот. Подождал две секунды, силясь почувствовать шевеление от ударов сердца и поверхностного дыхания. Потом размахнулся и ударил его кулаком по грудине. Перикардиальный удар. Он запрещён всеми рекомендациями, но используется повсеместно. Снова проверил пульс.
— Работаем! — реаниматолог взял уже протянутый ему сестрой–анестезисткой ларингоскоп и полез пациенту в рот. Анестезистка быстро достала из ящика интубационные трубки и вскрыла одну из упаковок. Тем временем хирург тащил с подоконника кардиограф, а его медсестра начала вскрывать ампулы с адреналином. Меня быстро оттёрли к стене — прокукарекал — молодец. Не мешай работать. От греха подальше я вышел в предоперационную и сел на привезённую кровать. Ничего нового я там не увижу, помочь ничем не смогу, только помешать.
Я достал из кармана телефон, и начал листать ленту телеграма. За стеной раздавались звуки реанимационных мероприятий: тяжёлые качки непрямого массажа сердца, крики «от винта» и щелчки дефибриллятора после них. Снова загудел наркозный аппарат, периодически жужжал кардиограф, выдавая на ленте что–то мало радостное, а у меня на экране шли кадры входа войск в Город. И мемасики с котиками. Новостей про оставшихся на базе товарищей пока не было. Сообщений о боестолкновениях — тоже. Диалог с Софьей тоже новых сообщений не содержал. Я открыл его, пролистал наверх. Милые картинки, песни Дениса Майданова, взаимные просьбы прикрыть на занятиях и дать переписать конспекты. Я ткнул пальцем в область для набора нового сообщения. Палец завис над клавиатурой в нерешительности. А потом свернул приложение к чёртовой матери. Захочет — напишет сама, не маленькая. А ещё — я не знаю что написать. Потребовать извиниться? Утопия. Попросить прощения самому? Нет уж, увольте. Сказать что люблю и скучаю? Она и так знает.
— Пойдём, — над моей головой раздался голос реаниматолога.
Я слез с кровати и глянул на часы: прошло около получаса, может даже больше.
Вместе с анестезиологом мы вкатили койку в операционную. Парень лежал на столе без сознания, подключённый к наркозному аппарату. Опербригада заканчивала свою работу. Мы перекинули пациента на кровать, я укрыл его простынёй, а доктор отцепил эндотрахеальную трубку от аппарата и прицепил к ней мешок Амбу[27]. Мы выкатились из оперблока, остановились возле лифта. Врач ткнул в кнопку на стене, а я подошёл к головному концу кровати, открыл парнишке один глаз и сжал глазное яблоко пальцами с боков. Зрачок стал вертикальным, как у кошки.
— Да мёртв он, мёртв. Смерть на столе просто не стали оформлять. Знаешь что такое КИЛИ?
— Да знаю конечно. Комиссия исследования летальных исходов. Служба внутренних расследований. И всё понимаю, можешь не объяснять. За смерть в реанимации отписываться проще, чем за смерть в ходе операции.
— Да. Но у него шансов почти не было. Кровопотеря больше двух литров, непонятно как он вообще доехал. Ещё и группа — четвёртая отрицательная, у нас таких эритроцитов всего два пакета по триста грамм было. Плазмы вообще один. А физраствор кислород переносить не умеет… — это было чертовски похоже на оправдания. Причём на оправдания перед самим собой. Доктор был немногим старше меня, и в крайне подавленном состоянии. Наверное это не первый пациент, которого не удалось спасти в эти страшные дни.
— Я же сказал: всё понимаю. Закрыли тему.
Анестезиолог чуть спокойнее кивнул и оставшийся путь до ОРИТа мы проделали в молчании. В дверях нас встретила Юля.
— В гнойную его?
— Нет, это труп, — врач отцепил амбушку от эндотрахеальной трубки и прошёл в «чистую» палату решать вопрос с завотделением.
Я всмотрелся в Юлино лицо. Оно отразило лёгкую грусть, но в целом было таким же спокойным как и моё. Жалко парня, без дураков — жалко. Что бы там ни произошло, он совершил мужественный поступок, и ценой своей жизни, купил жизнь своей подруге. Но всех не пожалеешь. Если переживать смерть каждого пациента, то или сопьёшься, или сбежишь из медицины, или умрёшь от инфаркта в тридцать лет. Никому от этого лучше не будет.
— Как девушка? — спросил я однокурсницу.
— Нормально. Из комы уже вышла, но в ступоре пока. Денёк–два полежит — придёт в себя. В эндокринологию переведут и всё будет нормально.
— Поначалу наверное ей лучше не знать о его смерти, — я положил руку на плечо мертвеца. — Себя будет винить, в депрессию впадёт. А это её состояние никак не улучшит.
— Ну её вина в его смерти действительно есть. Будь у неё запас инсулина — им бы не пришлось никуда ехать.
Я лишь молча кивнул, и ушёл за чёрным мешком.
Закончив с упаковкой и транспортировкой трупа, мы вернулись в отделение и разошлись по постам. Время приближалось к полуночи, свет в палате был приглушён. За столом, положив голову на руки, спала давешняя медсестра, чьё имя для меня так и осталось для меня тайной. Те немногие пациенты, что сохраняли сознание, тоже спали. Только одна женщина хлопала глазами, водя бессмысленным взглядом по стенам и потолку. Я взял в руки её историю болезни. Савельева Маргарита Андреевна, сорок девять лет, ОНМК. Инсульт, если проще. Поступила вчера. Сколько времени прошло с момента инсульта до госпитализации — неизвестно, но не менее двух суток. Сын прорвался к матери на другой конец Города, обнаружил её лежащей на полу, без сознания. Плюс путь сюда. Итог, судя по ЭЭГ — вегетативное состояние. Человек умер, живёт лишь тело, подобно растению. Нужно подтверждение рентгенографией сосудов мозга, чтобы констатировать биологическую смерть. Интересно, почему на гнойном посту? Места нет, наверное.
Кто ещё у нас тут? Викентьев Константин Ярославович, двадцать восемь лет. Избит неизвестными. Переломы лучевой кости и четырёх рёбер, разрыв печени. Ну и по мелочи: лёгкая черепно–мозговая, ушибы мягких тканей лица и конечностей. Прооперирован, печень ушита, на руке накостный остеосинтез, сознание сохранено, просто спит. Он ещё отнекиваться пытался, когда я ему клизму ставил.
Я отложил истории обратно на стол и подошёл к окну. Отодвинул жалюзи. На Красный давно спустились астрономические сумерки. Небо ещё немного светилось, но уже совершенно не мешало наблюдать за звёздами, моргающими своим холодным светом.
Мне на плечо опустился подбородок. Юля чуть выше меня, хоть и не на столько, на сколько Софья. На пару сантиметров, может.
— Кстати я не поблагодарила тебя. Спасибо, что спас меня, — мягкие руки обняли меня за плечи. — В новостях написали что на нашу общагу напала банда мигрантов. Количество пострадавших уточняется.
— Ерунда. Не бери в голову, — я прижал её руки к своей груди.
Не тебя я спасал, Юль, прости. Все мои мысли были только о Софье. Не окажись ты тогда в метре от меня, я бы забыл о тебе, как забыл об Алине, Ирине и Кристине. Кстати, как они, интересно? Надеюсь, что с ними всё хорошо, они из других ВУЗов и живут далеко от центра. Да и тебе я лишь подсказал что делать, спасла ты себя сама, поверив моим словам и выполнив в точности инструкции. Прости, Юль. Прости, что не люблю тебя, такую хорошую. Прости, что молчу сейчас, ведь ты меня любишь, я знаю. Прости, что у меня уже не хватит смелости тебе это сказать. Три дня назад — хватило бы, а сейчас — нет.
В тишине, нарушаемой лишь шумом аппаратов ИВЛ, заканчивался третий день с начала теракта.
Примечания:
[25] ЭХО — Экстренное хирургическое отделение.
[26] Фибрилляция левого желудочка – состояние при котором водители ритма сходят с ума и пытаются заставить сердце биться со скоростью 300+ ударов в секунду. По факту это означает остановку сердца (клиническая смерть). Лечится дефибриллятором – высоковольтным электрическим импульсом мощностью до 360 Дж. Соответственно получила сотку и пошла – импульс мощностью 100 Дж восстановил работу сердца.
[27] Резиновая груша для временной искусственной вентиляции лёгких. Все видели её в кино про медиков.
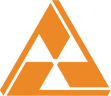




Какая же дичь…
Начиналось неплохо, юмор и сарказм порадовали, много несостыковок в хронологии связанных с реальностью но т.к. это роман, сойдёт. Честно, было интересно до главы: Ирина, потом какой-то сумбур, но осилил. Теперь про контекст, четко просматривается предвзятость к хохлам, не ну, были затронуты и другие нац-ти, но уж ярко выражены события последних лет на Украине и явная ненависть к украинцам как таковых. Создалось даже впечатление что на этой почве и рождался этот роман-газета, нехорошо как-то получилось. Считаю что админы должны пресекать подобного рода посты, хоть романов, хоть сочинений и т.д. несущих в себе ненависть, расизм и всё в таком духе. Сайт как я понимаю международный и создавался не с этой целью, а объединить ЛЮДЕЙ которым любо направление в выживании, бушкрафте, препперстве и т.п. С уважением, берегите себя и удачи всем.
Весь текс пронизан нацизмом…
Да какой там нацизм? 😄 Там лютый и дремучий социально-политический мрак в черепе у автора (на основании слов лирического героя). Автор выражает ненависть ко всем, начиная от Украинцев и заканчивая скинхедами, либералистами, и тд. Ну и так ватно, что можно ватными бушлатами дивизию обеспечить. )
Но местами очень интересно.
не очень интересно, но концовка обнадёживает. Дифирамбы дядюшке Пу не катят.
А мне зашло, захватывающе и сюжет достойный. Давно не находил легкого и атмосферного чтива, автору- респект и ачивка. Все социально- политические аспекты — личное дело автора, его взгляд. Ну и пусть будут на его совести.
Не пиши больше.
убейся.сам.